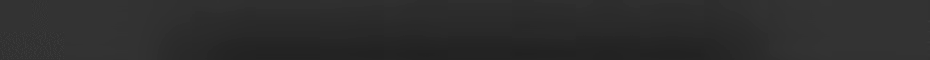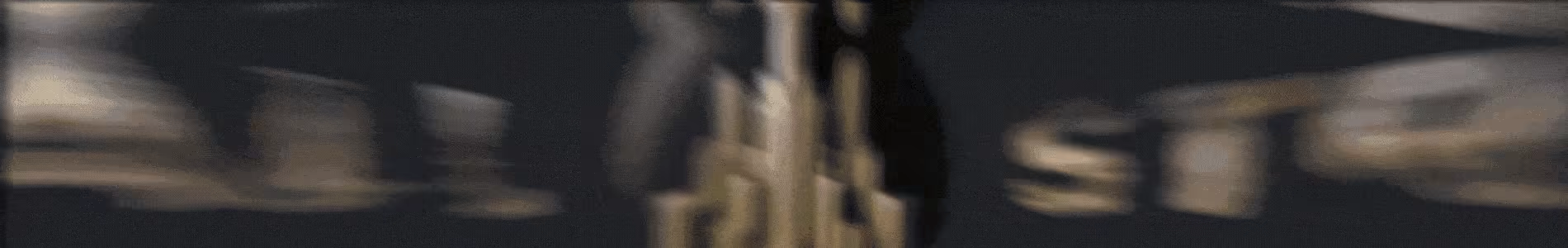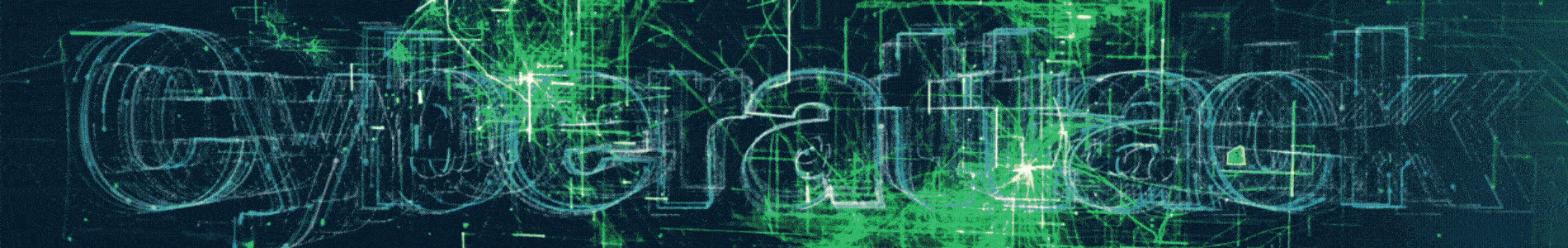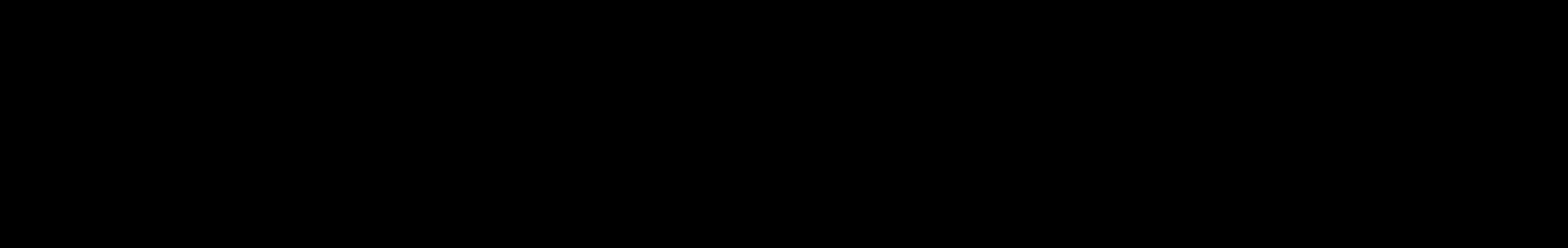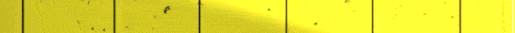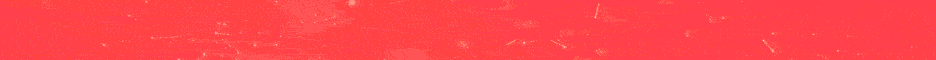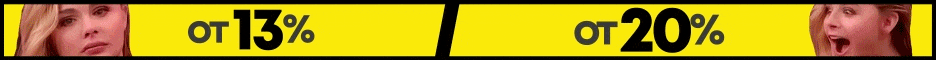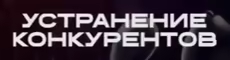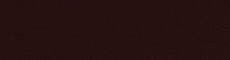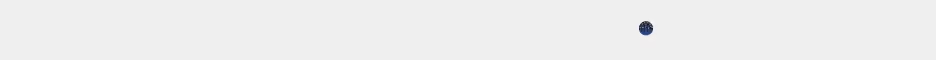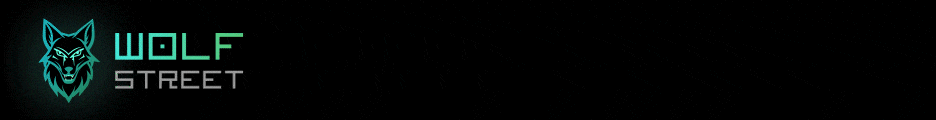Не стоит ждать, что в России начнется сдвиг в сторону укрепления институтов, наоборот, государство начнет извлекать еще больше бонусов из системы неформальных конвенций с собственниками. Изменить это нереально, но можно попытаться максимально рационализировать условия конвенций, сделать их более понятными и учитывающими интересы всех сторон, полагает социолог, руководитель ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов
Как часто бывает на крупных деловых форумах, самое интересное смещается на периферию — в кулуары, встречи на «полях», небольшие камерные сессии — уступая центральную часть парадной и официальной программе. Пусть в официальной программе ПМЭФ-2025 не было сессий, посвященных новой волне национализации собственности, зато об этом говорили на специальном завтраке в буржуазном отеле «Европа», где собралась группа ведущих экономистов, или в частных приватных дискуссиях. Дискуссию подстегнуло
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация
об изъятии аэропорта Домодедово в собственность государства, случившееся на старте форума.Впрочем, новость, которая еще несколько лет назад стала бы резонансным событием, сегодня была встречена удивительно спокойно. Деловая публика как бы пожала плечами: «Ну что вы хотите, время такое: стратегический актив должен быть под контролем». Историй с изъятием предприятий стало так много, что они создали накопленный эффект и оформились в привычный тренд. Термины «национализация» и «конфискация» в нем сблизились и почти слились при всех различиях: национализация все же предполагает выкуп, компенсацию, конфискация производится безвозмездно в связи с нарушением закона. Но на первое нет времени, ресурсов, да и зачем? Разве есть в природе человек, который чист перед законом?
Государственные цели
Волны национализации — это типичные явления в истории мировой экономики, успокаивающе говорят участники текущих дискуссий. Различные государства время от времени изымают (возмездно или нет) собственность, концентрируя ресурсы для крупных задач или радикально меняя структуру общества — не обязательно вспоминать только опыт 1917 года. Например, и в России не раз, начиная со времен Ивана III, и в Англии при Оливере Кромвеле, и в революционной Франции изымались церковные земли — у нас это дало основу для формирования служилого класса, который надо было обеспечивать земельным наделом. Была большая нефтяная национализация в 1960-е прошлого века, которая проходила и в западных странах, и на арабском Востоке.Во время кризиса 2008 года в США шла заметная национализация банковского сектора, но не только — в какой-то момент под контроль правительства
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация
даже General Motors, которую стали называть Government Motors. И конечно, сейчас ярким примером стала национализация российской собственности за рубежом и ответные меры с иностранной собственностью в России. Изъятие на Западе проходило даже слишком цинично для региона, который принято связывать с сильной институциональной системой: при конфискации активов «Газпрома» в Австрии
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация
даже кофейные сервизы и стулья. Национализация стала слишком частым явлением, чтобы становиться скандалом: она — индикатор чрезвычайной ситуации, а сегодня чрезвычайность уже воспринимается в качестве нормы, нормальность — в качестве исключения. Но при всех аналогиях стоит все-таки отметить типовые различия, три базовых варианта. Первый: государство национализирует убытки, затем приватизирует прибыли. Иными словами, спасает стратегические компании, выводит их из кризиса, затем возвращает в частное владение. Второй: государство национализирует прибыли, продает убытки, под контроль возвращаются успешные частные компании. Национализация может носить здесь как прямой, так и латентный характер — через консолидацию рынка вокруг крупных государственных корпораций, например, нефтегазовых активов вокруг «Роснефти». Третий: национализация стратегических звеньев, где экономика уже не играет существенной роли. В России преобладает второй и третий варианты, практически не проявлен первый.
Институт или конвенция
Следующий принцип — различный культурный код, который закладывается в понятие собственности. Есть страны, где это понятие, при всех оговорках, тяготеет к институциональному пониманию: собственность — священная корова, резать которую можно только в случае большой нужды. Поэтому, в отличие от политиков, западный бизнес очень скептически относился к конфискации российских активов: не из эмпатии к своим коллегам, а из понимания, что повышается уровень неустойчивости самого института. И есть культуры, в которых крупная собственность негласно воспринимается как конвенция — владеть ею можно при выполнении определенных, часто неформализованных правил игры. Эти правила могут предполагать ряд обязательств — социальных, политических, групповых — но самое важное, что они динамичны, например, до 2022 года одни, после — другие. Конвенции менее устойчивы и искусство владения во многом предполагает улавливать изменения и оперативно встраиваться в них. Этого качества не хватило бывшему владельцу (или владельцам) Домодедово — талантливому технарю со слабой социальной интуицией.Недостатки второй, конвенциональной модели понятны — она не позволяет вести долгосрочное планирование, повышает уровень неопределенности, стимулирует клановый подход и коррупцию. Но и у нее могут оказаться свои преимущества: подталкивать бизнес к социальным программам или использовать этот рычаг при мобилизационной ситуации.
Чтобы ощутить разницу между этими подходами, можно представить — в виде радикальной фантазии —
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация
между Дональдом Трампом и Илоном Маском, но с российскими героями. Скажем, какой-то отечественный бизнесмен поссорился с президентом и они публично обмениваются обвинениями в социальной сети. При этом условный Маск полностью уверен, что с его собственностью ничего радикального не случится, хотя есть риск остаться без госзаказа. Не правда ли, комичный сюжет? Сегодня нет никаких оснований ждать, что в России начнется сдвиг в сторону укрепления институтов, наоборот, государство начнет извлекать еще больше бонусов из системы конвенций. Тем более, у чиновников появилось стойкое ощущение, что эффективность бизнеса в большей мере зависит от менеджмента, чем от принципа владения. Одно из наиболее шумных событий текущего форума — огромная очередь к скромному стенду «Башкирской содовой компании», на котором раздавали футболки с цитатами Владимира Путина. Нарушила компания в свое время конвенцию, вызвав крупный общественный скандал,
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация
национализации, теперь приходится футболки раздавать. Критиковать Россию за такую модель и тем более, пытаться это изменить — все равно, что пытаться очистить зебру от черных полос, принимая их за грязь. Но это просто природа самой зебры. Возможно другое — попытаться максимально рационализировать условия конвенций, сделать их более понятными и учитывающими интересы всех сторон. Было бы неплохо найти российский точный аналог английскому выражению public affairs, отражающему искусство поиска такого баланса, но интуитивно все понимают, о чем речь. В грубой форме это отражается национальным императивом «не жрать в одно рыло».
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация